- 12 -
А. Вересов.
"Песня кирпичника".
Художник Р. Яхнин.

В марте 1826 года Александр Сергеевич Пушкин писал из Михайловского своему другу в Петербург:
« что это в самом деле? Стыдное дело. Сле-Пушкину дают и кафтан, и часы, и полумедаль, а Пушкину полному – шиш».
Невеселая усмешка проглядывала в этих строках, долетевших из псковской ссылки. Несколькими днями раньше, в другом письме, Александр Сергеевич тепло приветствовал молодого поэта, находя «у него истинный, свой талант», и просил переслать ему в подарок экземпляр «Руслана и Людмилы».
В ту пору Федор Никифорович Слепушкин ставил сушильные шатры в слободе Рыбацкой, на размытом берегу Невы, и там же сооружал обширные, приземистые печи для обжига кирпича.
В минуты досуга на плотном тетрадном листке, где обычно записывались штуки кирпича, сданные порядовщиками, Федор Никифорович сделал рисунок пером: возле длинных тесовых амбаров громоздились кучи глины и уложенные саженями дрова, вдали на реке виднелась лодка под парусом…
Кирпичеделом Слепушкин стал неожиданно для самого себя. Невдалеке от Рыбацкой нашел он большой тяжелый кирпич, покрытый густым слоем мха. Об этом событии он сложил стихи:
|
Пониже в трех верстах Ижоры, |
Находка давала богатую пищу воображению. Конечно же, этому кирпичу было не менее сотни лет. Из таких кирпичей возводились на берегах Невы стены первых домов.
После победы в Отечественной войне 1812 года Петербург стал разрастаться и строиться как никогда со времен Петра. Артели землекопов, плотников, камнетесов тянулись сюда со всех концов России.
Лопаты врезались в вязкую, тягучую землю. Копры с грохотом загоняли вглубь заматерелые дубовые сваи. На лесах стучали топоры, в высоте прогибались доски под тяжелым шагом каменщиков. Псковские, новгородские, ярославские напевы протяжно сплетались под серым, нависшим небом. Трудно работали строители, надрывали силы, умирали от голодухи, от горячки, от холеры.
Складывался каменный облик Петербурга, каким увидят его потомки и воспоют стихотворцы. Великие архитекторы отдавали городу свой талант и вдохновение. Карл Росси поднимал стены Главного штаба и Александринского театра; Василий Стасов воздвигал Павловские казармы на Марсовом поле; братья Андрей и Александр Михайловы украшали отменными строениями Васильевский остров… С каждым годом архитекторы требовали все больше и больше кирпича. На старых местах, на Неве повыше города, появились сушильные шатры, обжигательные печи. Вот в это время и нашел Слепушкин в Рыбацкой старинный шестнадцатифунтовый кирпич.
В кладовушке при доме он попробовал разбить его топором. Железо высекало искру. Отскочил угол, красноватая пыль поднялась облачком. Слепушкин собрал осколки, бросил их в стакан с водой.
Пытливо смотрел он, как оседают на дно острые кварцевые зерна, а глина плотным слоем затягивает поверхность… Слепушкин побывал в соседней порцелиновой мануфактуре* (*Порцелиновая мануфактура – ныне завод имени Ломоносова.). долго наблюдал он формовку и обжиг на кирпичном заводе, что у Невского монастыря. Сам принимался замешивать составы. Работа трудная, грязная; человек по горло перемазан глиной; к концу дня на пальцах жесткая корка залубенеет.
Мастерство же – старинное, нужное. Тонкий, хрупкий фарфор – порцелин, - разрисованный золотым узором и просвечивающийся на свету, - из глины. Кирпичи, из которых на века сложены стены зданий, также из глины. Великое дело – умелые человеческие руки!
Разрастается город. Сейчас ему кирпич, пожалуй, много нужнее, чем драгоценный фарфор. Слепушкин твердо решил стать кирпичным мастером.
* * *
Федор Никифорович Слепушкин был человеком веселым и удачливым. Могучего сложения, с густыми кудрями и бородой, которая росла где-то на шее, большеносый, с озорноватыми светлыми глазами, он унывать не любил. Был горяч, но, как говорится, отходчив. Ему ничего не стоило кинуться на рассердившего его человека с кулаками, а через минуту раскатисто смеяться над своей вспышкой. Волосатыми крепкими пальцами он легко гнул железный прут и теми же пальцами перебирал лады на берестяной пастушьей «жалейке». Песни ему нравились негромкие, печальные; а в жизни любил, чтобы все вокруг кипело, крутилось, бурлило и ветер хлестал в грудь. Тогда в глазах разгорались развеселые упрямые огни и он говорил себе: «Ничего, перешибу!»
Была у него небольшая, дочерна осмоленная лодка. Слепушкин держал перевоз через Неву. Как-то к ночи река разбушевалась. Заходили по ней высокие волны. Буря гнула к земле прибрежные деревья.
В избу Слепушкина постучали двое. Они просили перевезти их. По звучанию голосов, по выражению лиц Федор Никифорович понял: надо им быть на том берегу. Расспрашивать не стал. Взял весла, на ходу коротко бросил:
- Переплывем!
Лодку столкнули в воду. Гребец чутко слушал, как в рев, гул, сумятицу вплетается негромкое, ладное поскрипывание уключин. На середине реки лодку стало захлестывать. Спутники упали на колени, забормотали молитву. Слепушкин ногой подтолкнул к ним жестяной ковш и крикнул:
- Черпай!
Противоположный берег закрывала сгустившаяся мгла. Казалось, до него во веки не добраться. Гремел невиданный в этих местах ураган. Гребец налегал на весла. Любо ему было спорить с непогодой. Но и силы уже изменяли. Все чаще всматривался он: куда подевался берег? Вдруг под днищем лодки зашуршал песок. Вынесло-таки на береговую отмель.
Один из спутников протянул Слепушкину деньги. Он отвел руку, любуясь вспененной рекой…
Так и через жизнь пробивался этот человек – с лихим и пытливым бесстрашием.
Своей настоящей фамилии он и сам не знал. В дальней деревне, принадлежавшей помещице Новосильцевой, Федора, его отца и мать называли Скударными, по их неизбывной бедности. Дед ездил на отхожий промысел в Москву, там ослеп и вернулся домой с прозванием Слепушкин, перешедшим на весь род. В Рыбацкой Федора звали Заречным, потому что сначала он жил не в слободе, а на другом берегу реки. В Рыбацкой он и женился. Во время венчания священник назвал его Слепушкиным. Невеста подняла удивленные глаза: «Ты ведь Заречный. Почему – Слепушкин?»
Федор Никифорович промолчал. Лишь позже, на пути к дому сказал: «Мало ли нас на Руси таких, как я, бесфамильных? Кликнуть ведь и по имени можно: Федька, Васька, Гришка. Зачем нам фамилия?»
Так и не поняла невеста, шутит он или всерьез говорит.
* * *
Нужно еще рассказать, как Слепушкин впервые появился в Рыбацкой.
В отроческие годы Федор Никифорович покалечил себе левую руку. Работал он у барыни на мельничном поставе. При слабом ветре вздумал пособить ходу нижних колес. Нагнулся и начал подгонять их руками. Левую тотчас зажало шестеренкой. На крик сбежались работники; они успели отпустить прижим, а то бы всего втянуло в колеса.
Раздробленная рука долго не заживала, кровоточила открытыми ранами. К этому времени Федор был уже сиротой. Умерли отец и мать. А все лохмотные пожитки прибрал староста, на правах опекуна. Одна дорога оставалась Федору: стать «голью перекатной» в поисках хлеба и денег на господский оброк. Он отправился в Москву, там нанялся сидельцем в лавку. Потом перебрался в Петербург. В кармане у него бренчали три полтины – все его состояние. На них купил вареных груш. С лотком ходил по улицам, выкрикивал пронзительно, нараспев: «По-варену грушу!»
Так забрел он однажды в Рыбацкую слободу. Понравился ему лесок, сбегающий к Неве, двойной ряд чистеньких домов вдоль Шлиссельбургского тракта. По реке плыли весельные карбусы. Лодки, груженные сетями, уходили на лов. Внезапно где-то близко прозвучал мерный, тяжелый топот, чей-то вздох, похожий на стон.
Из-за мыска, образованного в этом месте рекой, вышли бурлаки, впряженные в лямки, они, почти касаясь земли руками, тянули вверх по течению большую баржу. Кругом – вольный, легкий простор. И вот эти лямки на изможденных непосильным трудом плечах…
Слепушкин скинул лоток с плеч, примостил его на коленях. По разостланному белому листку забегал карандаш.
Рисование было давнишней страстью Федора. В деревне он делал первые опыты на бересте, а красками ему служили соки малины, голубики, черники. Теперь он обзавелся бумагой и карандашами.
Слепушкин старался как можно точнее передать облик бурлаков, их морщинистые, орошенные потом лица, шеи с вздутыми жилами.
Вдруг кто-то сильно толкнул его в плечо. Федор выпрямился. Маленький старик гневно потрясал суковатым посохом:
- Шапку скинь, нечестивец! Не знаешь, куда пришел!
Только теперь Слепушкин заметил, что поблизости над холмиком вздымается ввысь стройный каменный обелиск.
Старик увидел бумагу на лотке, присмотрелся к рисунку и примирительно сказал:
- Похоже.
Федор спросил: чем же свято это место? Старик выпятил свою тощую грудь, сверкнул глазами под густыми, вислыми бровями:
- Это, брат, нашим героям памятник.
В Рыбацкой слободе издавна жили переселенцы с Оки. Сюда лет сто назад были переведены целые села. Крестьяне ставили избы привычным порядком – сосед к соседу поближе. И в названии улиц долго сохранялись имена приокских деревень: Дедлово, Ловцы, Любицы… Прирожденные рыбаки, на утлых суденышках, семьями отправлялись за сигами и щуками далеко на Ладогу и в другой конец Невы, на взморье.
В 1789 году во время войны со шведами, когда враг угрожал Петербургу, жители слободы собрались у холма на мирскую сходку. Рыбаки решили оставить сети и пойти на военные суда матросами.
После войны здесь был воздвигнут обелиск в память о героях-рыбаках, не вернувшихся в слободу. С тех пор это место почитается в народе…
Старик, воевавший в свое время со шведами и в Роченсальме, и в Выборгской бухте, спросил Слепушкина:
- А ты сюда к нам откуда явился?
- Здешний я, - смешливо блеснув глазами, ответил пришелец.
- Врешь! Здешний про памятник не спрашивал бы.
- Вру, - спокойно согласился Федор, - наполовину вру. Я теперь тут жить буду.
С этого дня Слепушкин стал жителем приглянувшейся ему Рыбацкой слободы. Веселый пришелец оказался уживчивым соседом. Он огородничал, перевозил путников через Неву, работу себе всегда находил. С годами остепенился; разрослась у него большая семья, корнями врос в невскую землю. Одно было не по душе кое-кому из односельчан – кропал Слепушкин вирши. Получалось складно, да ведь барская это затея – стихи. Впрочем, открыто посмеяться над ним никто не решался: силен, дьявол, за обиду мог и хребет перешибить.
* * *
Через Рыбацкую довелось проезжать в Шлиссельбург Павлу Свиньину. Он услышал про крестьянина-стихотворца и познакомился с ним.
Петербургский литератор, путешественник и коллекционер, Павел Петрович Свиньин сочетал в себе множество добрых намерений и забавнейших причуд, глубокий интерес к народным талантам и холопское низкопоклонство перед власть имущими. Его квартира на Михайловской площади была превращена в некий «музеум», где рядом с картинами Кипренского и Левицкого висел чепчик, сотканный из паутины какой-то досужей девицей. Этот человек воздавал должное гению самоучки Кулибина и в то же время раболепствовал перед Аракчеевым.
Павлу Свиньину понравились стихи Слепушкина, особенно его басни. Некоторые из них он напечатал в своем журнале, сопроводив елейно приторным введением:
«Известно, что древние не позволяли рабам заниматься свободными художествами. Как же русский крестьянин, крепостной человек, посвящает мирные часы досугов своих столь благородной страсти?»
И тут же в сноске – замечание, что, разумеется, нельзя сравнивать русских крепостных с древними рабами: «…кому не известно, что здесь миллионы крестьян благоденствуют под отеческим управлением своих господ».
Слепушкин лучше, чем кто бы то ни было, знал цену этого «благоденствия». К нему, автору стихов, напечатанных в петербургском журнале, во всякое время могла протянуться барская рука и выпороть плетью, просто так, «чтобы не зазнавался».
В 1826 году вышла книга стихов Слепушкина «Досуги сельского жителя». Эта книга принесла автору «и кафтан, и часы, и полумедаль», о которой в письме к Плетневу шутливо писал Александр Сергеевич Пушкин.
Кафтан был подарен царем. Медаль Слепушкину пожаловала Российская академия при таком послании:
«Почтеннейший крестьянин Федор Никифорович.
Российская императорская академия в заседание свое сего января 23-го дня 1826 года слушала стихотворное сочинение твое под названием «Досуги сельского жителя». Академия с удовольствием и не без удивления к природным дарованиям твоим нашла оное весьма хорошим».
Лучшие стихи Слепушкина светились метким народным юмором. По общему признанию, превосходнейшее стихотворение о коне и домовом было написано Слепушкиным под влиянием своего великого «почти однофамильца». В этом стихотворении высмеивались деревенские суеверы, которые в недугах крестьянского Гнедка винили домового, а дело было просто в том, что молодой конюх по ночам тайно ездил на нем к своей милой. Заканчивалось стихотворение так:
Поныне тоже говорят,
Случится ль где такое чудо,
Коню от домового худо,
А смотришь – конюх виноват.
Однако не народное начало в еще неокрепшем творчестве поэта, не пушкинские ростки в его даровании постарались взлелеять писатели вроде Свиньина. Они наименовали Слепушкина «Русским Гезиодом» и приложили все силы, чтобы представить его читателям этаким иконописным мужичком, стриженным в скобку и держащим в руках верноподданическую лиру…
Поэт из слободы Рыбацкой был выкуплен у помещицы за 3000 рублей. Среди тех, кто хлопотал о его освобождении, был Александр Сергеевич Пушкин.
* * *
Федор Никифорович вместе с сыновьями замешивал глину для первых кирпичей. Задымили трубы над рыбацкой, зашумели, загуторили артели кирпичеделов.
В ямах босоногие парни уминали месиво. Пожилые, обстоятельные формовщики быстро и крепко постукивали деревянными скалками. Сформованный сырец рядами тянулся под скатами шатра. Работные многократно повернут кирпичи с ребра на ребро и лишь потом широкими штабелями запрут их в печь и разожгут огонь.
В этом труде сказался другой талант Слепушкина. Умел он, распластав глину на ладони, сразу сказать, тощая она или жирная и сколько надобно добавить к ней песку. Он точно определял, какой сорт сколько дней возьмет на просушку. А в те две недели, когда кирпич обжигали в печах, Федора Никифоровича и днем и ночью можно было увидеть возле «глазка». На шестой или седьмой день он взволнованно и тихо, будто боясь спугнуть кого-то, сообщал, что печь пошла на «взвар».
Обычно на рассвете раздавалась его зычная команда:
- Отпирай печь!
Еще лежит роса на траве, над Невою туманы клубятся. В прибрежных кустах перепелки прикрывают крылом пушистый выводок. На отвалах курится сизым дымком зола.
- Отпирай печь! – кричит Слепушкин, и тотчас раздается топот жигарей.
Под ломами быстро подается заслонка. Из раскрытого проема идет тепло.
Слепушкин вскидывает на ладонях еще горячий кирпич – он легок и звонок. Из такого кирпича построишь дом – дом простоит века.
- Для города нашего постарайтесь, - говорит Федор Никифорович обступившим его жигарям, порядовщикам, формовщикам и показывает в даль, где в дымах фабрик, поблескивая золотыми маковками, в предутреннем тумане встает Петербург.
В рабочих артелях ценят душевные слова Слепушкина, нечастые, скупые слова. Годы круто изменили его. Стал он мрачноват, неразговорчив, гневлив, суров к людям.
Однажды в темных сенях артельной избы услышал он, как говорят о нем порядовщики. Один сиповатым, простуженным голосом сказал:
- Стареет Слепушкин. Прижимистый стал. Вчера по восемьсот кирпичей отмахали. Мало, говорит.
Другой голос, помоложе, позвончее, заметил:
- А ведь наш брат – мужик. Экую работищу вперед двинул, черт!
В этих словах чувствовалась и гордость, что вот, дескать, человек из народа вышел, сам постиг тайные глубины большого дела, стал известным на весь город кирпичным мастером. Но за «черта» Федор Никифорович крепко обиделся; он запальчиво шагнул вперед – под ногами заплескалась бадья с водой. Чьи-то сильные руки перехватили его, посадили на лавку. Слепушкин приподнялся, но вспышка самокрутки на мгновение осветила мохнатую бровь и седой висок. Сразу узнал рябого порядовщика. С ним не поспоришь силой.
Федор Никифорович грузно завозился на лавке, вздохнул и сказал:
- Зря вы обо мне так, ребята. Не забыл я, какого рода-племени. Знаю: где сосна росла, там она и красна… А кирпича побольше давайте. Ко мне вчера из города нарочного присылали: формовой кирпич нужен.
В дни, когда открывали печь и возле причалов на баржах виднелись ровно уложенные ряды и кормщики, деловито покрякивая, посматривали на осадку, Федор Никифорович добрел, молодо поблескивал глазами, шутил. Кирпичи слепушинской выделки высоко ценились зодчими. До семи миллионов штук давал он в год строителям Петербурга, Кронштадта, Петергофа.
* * *
В полдень в Рыбацкую прикатила запыленная бричка. Черноглазый, подвижный человек с крупными выразительными чертами лица отбросил кожаную полость, ступил на землю, смахнул плащ с плеч и заспешил к сушилам.
Он зачерпнул в приямке глину и размял ее в руках, заглянул в глазок печи, направился к причалам. Поднял готовый кирпич, взвесил его на руке и расколол о березовое полено. Глаза его стали еще черней и больше. Он подбежал к Слепушкину и, задирая голову – он был намного ниже Федора Никифоровича, - закричал:
- Мне твой кирпич хвалили. А это что? Слои! Глину плохо размешиваешь. Такой кирпич не присылай ко мне!
Слепушкин расправил бороду:
- Не кричите, сударь. Я и сам из сердитых. Вы кто?
Черноглазый удивленно посмотрел на него:
- А я вот тебя сразу узнал… Моя фамилия – Росси.
Через месяц Федор Никифорович сам повез в город кирпичи новой выделки. Баржа на быстрине спустилась по Неве до Летнего сада. Там был какой-то праздник. Ветром доносило тонкое благоухание цветов. Слышалась роговая музыка. В тенистых аллеях виднелись кипенно-белые статуи. Среди деревьев мелькали яркие шелковые платья…
Бородатый кормщик в прилипшей к спине рубахе изо всех сил налег на рулевой брус. Баржа медленно вошла в Фонтанку. Миновали гулкие пролеты моста. И тогда сразу увидели: над зелеными купами Аничковой усадьбы поднимались, блестя на солнце, яруса строительных лесов.
Баржа, скрипнув бортом, причалила к пристани. Слепушкин пошел разыскивать главного строителя.
Он вернулся вместе с Карлом Ивановичем Росси. Архитектор поднял на выбор кирпич, постучал по нему, прислушался к мелодичному звону. Потом взял у кормщика молот, разбил кирпич, чтобы рассмотреть его внутреннее строение.
Росси велел десятникам поторапливаться, начинать разгрузку и, обратясь к Слепушкину, сказал:
- Пойдем-ка со мною, Федор Никифорович.
Они спустились на берег по узким сходням.
Вокруг кипела обычная суета большого строительства. Среди белых холмов извести, бурых нагромождений кирпича работали сотни людей. В больших чанах замешивали раствор. Под зубилами камнетесов легкими вихорьками дымился гранит. С протяжными вскриками артель тащила на толстых канатах завернутое в войлок огромное изваяние. Вереница рабочих с деревянными козелками на спинах, сгибаясь под тяжестью кирпичей, потянулась на леса.
Росси, в перемазанной известью куртке, с оживленным лицом и горящими глазами, видимо, наслаждался этой шумливой поспешностью множества людей, слитным гулом говора и перестуком плотницких топоров, где-то на высоте. Сын петербургской танцовщицы, он в своих движениях сохранял какую-то неповторимую стремительность, цепкость. Архитектор и кирпичедел поднимались все выше, с яруса на ярус.
- Я твои шатры да печи видел, - говорил Карл Иванович, - теперь ты на мое хозяйство взгляни. Вон оно какое!
Огромная площадь от берега Фонтанки, наискось к Невскому проспекту, была перекопана, разворошена, местами дыбилась лесами. Ничего особенно красивого в этом не было. А России требовал, чтобы Слепушкин уверовал именно в красоту того, что создавалось здесь. И в самом деле, говорил он так увлеченно, так убедительно, что перед глазами его слушателя из хаотического нагромождения перекрытий и еще незавершенных стен возникали стройные очертания будущего.
- На этой высоте, где мы сейчас стоим, замрет впряженная в Аполлонову колесницу четверка коней, - рассказывал архитектор.
Слепушкин слушал его и мысленно представил себе величавый фронтон с лепными масками и гирляндами, коринфские колонны, легко несущие его, и внизу пять широких дверей, ведущих в великолепный театр.
- Теперь посмотри сюда, - России повел Слепушкина на другой конец яруса. – Здесь до самой Фонтанки протянется улица, подобно которой нет во всем мире.
И Федор Никифорович мысленным взором окинул эту будущую улицу: она образована двумя стоящими друг против друга зданиями и вдаль уходит белая, чудесно очерченная колоннада…
Великую красоту задумал воплотить в камень этот удивительный человек!
- Понимаешь ли, - допытывался Карл Иванович, - на какое дело идут твои кирпичи?
Неподалеку на кладке работал каменщик. Был он темноволос, с обветренным, красноватым лицом. В его руках поблескивал железный сокол. Ходил он по шаткой гнущейся доске. Передвигаясь, он под ноги не смотрел. Каменщик словно не чувствовал высоты. Он что-то насмешливо крикнул соседу и снова принялся укладывать кирпичи на известковую постель да постукивать соколом.
- Ну и смельчак! – зачарованно произнес Слепушкин.
* * *
Федор Никифорович вел дневник – журнал. Он вносил в него коротенькие, немногословные записи:
«Зачин на малом заводе… Первой кашинец порядовщик Григорий сделал отлично кирпич».
«Судовые грузят старый кирпич, очелошники чистят печи, резанец выгружает песок. Никитины строют новые навалы, словом, всяк свое дело исполняет».
«Кашинцы работают отчетисто и глина улажена хорошо. У других со всячинкой».
«Дело идет своим порядком. Печь прошлого кирпича обжигается – горит шестой день и пошла на взваре».
«В печь заперли старый кирпич, в котором довольно железняку».
Это были записи мастера большой и трудной работы. В них упоминались имена кирпичеделов – кашинцев, рязанцев – людей мастеровых и непокорных, умеющих постоять за себя.
В записках шла речь о выгаре, об осадке, о соотношениях песка и глины, о постройке новых сушилен.
И нигде ни единого слова о стихах.
Что же случилось со Слепушкиным-поэтом?
Он был одаренным человеком. В его баснях сверкали драгоценные зерна народной мудрости. Один из первых в русской поэзии, Слепушкин начал писать о мастеровых людях, о простом и великом деле, творимом ими.
Вот, например, строки из его стихотворения о каменщике:
Рабочий каменщик, отважный,
На самой высоте, бесстрашный,
В пыли, в поту труды несет,
Смеется, шутит и поет.
Несет ли ношу с кирпичами,
Мостки трясутся под ногами,
Он будто по земле идет!
Лучшие его стихи были посвящены народному быту. Не напрасно великий поэт России называл многие из них отличными. Но Александр Сергеевич Пушкин близился к тяжелой развязке своей жизни, он уже не мог поддержать начинающего поэта. Павел Свиньин вел Слепушкина по трудным путям поэзии. Своим картавым говорком оценивал он его безыскуственные произведения:
- Это, милый друг, никуда не годится. А вот это превосходно.
По мнению Свиньина, «никуда не годились» правдивые стихи о крестьянском и трудовом быте, «превосходным» оказывалось все, что писалось о сусальном благоденствии под «отеческой царской рукой». Но как раз эти-то «превосходные» стихи Слепушкина с каждым годом становились все более пустыми, холодными, выспренними. Павел Свиньин «открыл» для литературы имя Слепушкина. Но он же и умертвил его дарование.
Федор Никифорович был достаточно умен, чтобы понять безвозвратную гибель своей музы. Он перестал писать стихи.
Никто не знал, как переживал он эту свою беду. Слепушкин посуровел, построжал, замкнулся и, подобно многим несчастливым людям, часто бывал несправедлив к себе и к тем, кто работал и жил рядом с ним.
Все свои силы Федор Никифорович отдал полюбившемуся ему кирпичному мастерству. Из кирпичей его выделки строились многие дома в городе.
* * *
Прошло несколько лет. Слепушкин вечером возвращался от Александра Филипповича Смирдина, издателя его первой книги и человека, дружбу с которым он сохранил надолго. Александр Филиппович, прощаясь, подсунул ему альбом и упросил написать, «что взбредет в голову».
Слепушкин набросал простую народную песню – то ли сам он ее сложил, то ли слышал в молодости:
Гори, гори, моя лучинушка,
Гори посветлее,
Прядись скорей, мой чистый лен,
Прядись поскорее,
Спеши, мое кленовое,
Спеши, веретенце…
Эти строчки звучали у него в ушах и сейчас, когда он неторопливо шел по Невскому, смешавшись с шумной толпой. Было поздно, однако еще светло. Ламповщики только собирались зажигать фонари.
Слепушкин, проходя по городу, любил оглядывать зоркими глазами то, что строилось здесь на его памяти. За аркой Главного штаба, увенчанной колесницей Победы, открывалась колоссальная площадь, очерченная ровным полукругом домов. А Федор Никифорович хорошо помнил тут разнокалиберные фельтовские здания, среди которых терялись размеры и красота площади…
В конце широкой и прямой, отходящей от проспекта улицы виднелся обширный Михайловский дворец; в его фасаде нетрудно было узнать знакомый «почерк» архитектора: просторный треугольный фронтон и под ним – колоннада, опирающаяся на арки подъезда. Когда-то на месте Михайловской улицы зыбилась земля, набросанная на болотце. Кое-где находились бревна старинной гати, тянувшейся до Невского проспекта.
Чуть подальше, за Гостиным двором и зданием Публичной библиотеки, над кронами сада высились величавые стены Александринского театра. Все было так, как провидел зодчий: и Аполлон на летящей колеснице, и белая колоннада над входом, и за театром, в глубине, начало новой улицы.
Подумать только, что эти прекрасные здания воздвигнуты по плану одного архитектора, великого, гениального строителя!
На плечо Слепушкина легла чья-то рука. Он остановился и отступил на шаг, не веря и радуясь этой встрече. Перед ним стоял человек с опухшим лицом, поросшим седой щетиной. Только черные живые глаза напоминали о былом, но и они старчески слезились.
- Вы ли это, Карл Иванович? – невольно воскликнул Слепушкин.
Он взял его под руку, и они пошли вместе.
Федор Никифорович знал, что Росси вот уже несколько лет ничего не строит. Но ему и в голову не приходило, что архитектор живет на краю города, в Коломне, и страшно бедствует. Росси, опустив дряблые щеки на несвежий воротник, тихо и сбивчиво рассказывал о смерти своей жены, о том, что он не знает, где взять денег на ее похороны.
Это говорил человек, через руки которого прошли десятки миллионов рублей, зодчий, строивший дворцы царям, мастер. Чьими творениями всегда будет гордиться город…
Слепушкин долго не возвращался к себе домой. Он бродил по светлым ночным улицам и всматривался в их очертания. В зыбких, голубоватых сумерках высились колонны, на фасадах белели лепные легкие фигуры, могучие атланты подпирали тяжелые карнизы. С дворцовых крыш холодно смотрели на опустевшие улицы бронзовые статуи.
Федор Никифорович Слепушкин, поэт и кирпичный мастер, понимал, что пройдут века, как годы, будут преданы забвению самые имена нынешних хозяев дворцов, а все эти чудесные строения останутся на радость людям. В этом вечном каменном великолепии был и его «кирпичик» - простой и грубый, прямой с ребра, прямой с ложка, крепкий и звонкий, обожженный в печах Рыбацкой слободы.
«С меня и того довольно, - говорил он себе, - вот это и есть моя настоящая песня!»
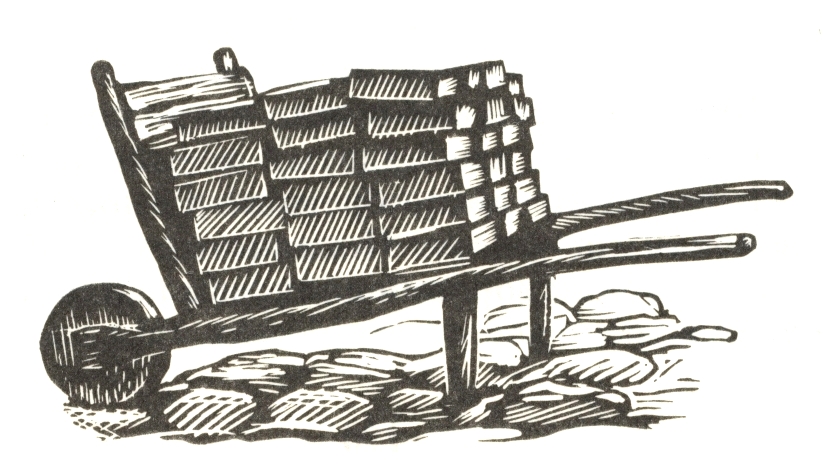
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 14 15 16
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:







